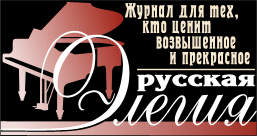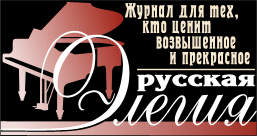Андрей Битов:
памятник Блокаде – тепло в домах и чистые улицы
05.02.2010 10:34 
Грядущая дата гибели Пушкина неверна, считает президент российского Пен-клуба и пушкиновед Андрей Битов. В интервью «Фонтанке» живой классик русской литературы говорит о мистике цифр в жизни великих писателей, размышляет о Набокове и Заболоцком, Акунине и Марининой, рассказывает, за что его невзлюбила церковь и почему у него болит сердце за Санкт-Петербург.
- Был ли на самом деле заяц в жизни Александра Сергеевича, памятником которому в Михайловском была недовольна церковь? Кстати, почему недовольна-то?
- Да, была недовольна... Заяц вроде бы считается нечистым животным, а я его возвеличил. Но в самой-то церкви у нас, к сожалению, как пел Высоцкий: «...всё не так, всё не так, как надо» – уж больно прилипла она к начальству. С одной стороны, конечно, хорошо, что храмы восстанавливают и на батюшек нельзя особенно бочку катить, поскольку они грехи отпускают – это ещё Розанов говорил, а с другой стороны... Ну, вот комиссары пропали, но настоящая вера-то ведь ещё не вызрела. А что заяц?.. Памятник-то был выбору как таковому, тем более, дата была очень значительная, наша акция называлась: «К 175-летию перебеганию зайцем Пушкину дороги, а также восстанию декабристов». Заметьте – «А также»! Памятник зайцу был установлен в канун 2000-го года – в тот момент даже Ельцин вдруг преподнёс нам подарок, передав власть преемнику, кроме того, дата выпадала на смену спидометра на новое тысячелетие, обнулялись даты.
Памятник был выбору Пушкиным дороги, причём – историческому выбору: ведь, когда заяц перебежал ему дорогу, он рвался в Питер из-под полицейского запрета и попадал точно на восстание – и тогда бы у Пушкина была совсем другая судьба, которую он предвидел ещё в 1824 году. Он предчувствовал, что его могут сослать в Сибирь, где он напишет поэму «Ермак» или «Кучум» с разнообразными рифмами и размерами. Но тогда это была бы совсем другая история. А так – 12 лет свободного Пушкина много чего реально дали России. Намного больше, чем если бы он просто выживал в Сибири.
Заяц сделал важное дело, так что этот памятник и ему тоже. Он бежал по своим делам, а так как свидетелей было всего два – Пушкин и заяц, нам поведал об этом заяц... (Смеётся). Пушкин сам рассказывал эту историю. Следовательно, ему это нравилось, и если даже он мифотворил – мифотворил он недаром. И, кстати, моё пушкиноведение основывается на его показаниях – я, конечно, могу их толковать – но не на показаниях других людей. Пушкин, сердясь на то, что после смерти Байрона все читают его дневники и радуются, какой он, оказывается, был на самом деле, писал, что всё это низко, и сам исповедовался в стихах. И хотя Пушкин закрытый человек и никогда себя не выворачивал наизнанку, как это стало позже свойственно русской поэзии, в этих стихах есть, что прочесть и о нём самом. Это совсем не весёлый поэт, очень хорошо чувствующий судьбу; так что его стихи и памятник его судьбе тоже.
- Соответствию эпохальных дат в жизни великих людей их официальным биографиям вы придаёте повышенное значение.
- В пушкинских датах я первый пошёл по большевистскому пути изменения этих дат... Мы с вами сейчас говорим о кануне смерти Пушкина, а я её уже на сегодняшний день пережил, потому что в действительности она произошла 29 января. Пушкин ведь жил в своих датах: он родился 26 мая – это отмечено и в его стихотворениях, а 6 июня для него ничего абсолютно не значило. Писатель Конецкий, родившийся 6 июня, мог жаловаться, что у него нет своего дня рождения, поскольку его день рождения совпадал с официальной датой празднования дня рождения Пушкина; в этом смысле я Конецкого понимаю, но он-то действительно родился в этот день, а Пушкин – нет. Поэтому я и «Пушкинскую премию» – немецкую, а теперь уже и русскую – выдаю 26 мая, утверждая, тем самым, эту дату рождения поэта.
И подстрелили Пушкина 27 января, 28-го он умирал, а помер 29-го – это числа, в которые кончалась его жизнь. 28 января – по старому же стилю – является сакральным числом: Достоевский помер 28-го, Бродский помер 28 января (но, правда, в новом уже стиле), многие попали в это страшное число... Петр I умер в эти числа! Я даже построил по этому поводу целую главу... Пушкин же занимался Петром, конспектировал его смерть; и я поставил параллельно этот его конспект и воспоминания врачей Даля и Спасского, которые описывают смерть самого Пушкина.
Так что Пушкин вполне мог понимать о себе: кто уходит из жизни. Тем более, что ему с «раннего утра», ещё с лицея, обещали петровскую карьеру; это была идея целого поколения, что человек в литературе может сделать не меньше, чем Пётр I на царском троне. Этим «нагрузили» Пушкина. И не напрасно! Но нельзя, конечно, утверждать, что Пушкин чванился этим чувством перед смертью, тем более, что он физически ужасно страдал; но страдал он, как отмечают врачи, как настоящий воин, – мужественно терпел боль; однако помнить об этих датах он мог, ведь даже перед выездом на дуэль он делал записи в своих конспектах о Петре. Так что январские даты вполне соотносятся с Пушкиным. И сам Пушкин эту петровскую дату помнил, я привёл достаточно доказательств. Он вообще был внимателен к датам. Благодаря именно Пушкину, в нашей истории в новом стиле не были пересчитаны две даты: 19 октября – поскольку окончание Пушкиным лицея запечатлено в его поэзии, и оно стало чудесным праздником золотой осени, и 14 декабря.
Пушкин был склонен обращать внимания на числа. Он с гордостью говорил, когда гулял, что портирует пиковую даму на тройку, семёрку, туза – значит, числа что-то значили; в это нельзя углубляться, но иметь в виду можно, поскольку он сам придавал этому значение. Простым памятником тому событию в Михайловском стал и верстовой столб, на котором было указано, сколько езды до Питера. И недавно для меня было настоящим подарком увидеть, что этот столб стоит на прежнем месте. Некоторые люди кладут к столбу морковку вместо цветов. На этом столбе цифра: 432 версты. А это ведь король, дама, валет! Я никогда не обращал на это внимание! «Король, дама, валет» – это, кстати, один из романов Набокова. Вот был бы прекрасный подарок самому Набокову, если бы ему рассказали об этом факте, – вряд ли он сам знал, что от зайца до Петербурга было 432 версты.
А 10 февраля для меня дата, которая ближе к Масленице, к Сретению... Когда у нас Сретение?.. Кстати, без ханжества у нас в школах следовало бы вводить не Закон Божий, а религиоведение. Чтобы люди ориентировались в этой культуре, в разных конфессиях, чтобы в обществе возникала толерантность, чтобы люди знали об основных церковных праздниках, об основных русских святых – это же просвещение, это очень важно. Основные молитвы люди, конечно, должны тоже знать, но молитвы нельзя зубрить, к ним надо прийти – кому какая молитва понравится, и сколько он захочет, столько их и нарастит. Я себе нарастил молитвы четыре от силы, и вовсе не считаю, что этого мало; главное, чтобы они шли от сердца и тогда, когда это человеку действительно необходимо. Я думаю, что христианство и православие не отменяют свободы, а, наоборот, её обеспечивают. Ну и что, если кто-то курил или пил... – будто сами батюшки этого не делают. Или если кто-то мастурбировал в детстве, или даже не в детстве. Такие зазубренные покаяния – не исповедь; как писал Пушкин: «К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь». Приличия в храме, конечно, соблюдать надо – и это не так сложно, но церковь не должна быть гребёнкой. И сама исповедь должна быть только по зову сердца: человек пришёл – значит, ему понадобилось, даже если пришёл он случайно.
Я несколько отклонился от вопроса, но считаю это отступление тоже в тему – Пушкин перед смертью исповедовался, причастился и просил ни в чём не винить его жену: «Она страдает больно». Это тоже важно помнить всем этим пушкинистам, которые копаются в Наталье Николаевне. А она... вот, что она сделала замечательно: она не отдала для публикации свои письма к Пушкину! Так и осталось тайной за семью печатями: уничтожены они или где-то хранятся... Пушкин её любил, он защищал её честь. Именно так – «честь». И погиб как воин, как рыцарь, иных толкований я не вижу, и не надо в этом копаться – Пушкину бы это не понравилось.
- Его нынешняя посмертная доля ему бы понравилась?
- Сколько мы мурыжим бедного Пушкина! Лучше бы мы его читали, честно говоря. Мало его читают. Он очень трудный на самом деле поэт, у него всё нагружено мыслью, но кажется при этом гладким, простым, гармоничным; и этот миф о доступном Пушкине, который он и сам поддерживал, спрятал его и заслонил так, что в истолковании Пушкина об истинном Пушкине гораздо чаще недобирают, чем перебирают. Пушкин – поэт, который с детства каким-то образом знал срезы своей судьбы:
Великим быть желаю,
Люблю России честь,
Я много обещаю –
Исполню ли? Бог весть!
Это написано Пушкиным в 14 или 15 лет! Ему пришлось выдержать и своё послесмертие, которое было очень неправильным. Пушкина много раз подстраивали под идеологию – какой Пушкин нужен, таким и будет: и революционером, и защитником царского режима, и имперским воспевателем, и безбожником, и христианином... А если прочесть Пушкина непразднословно, можно понять его судьбу в том смысле, в котором он о ней говорил. К слову, о молитвах. В последний год Пушкин «приложил» слово к слову молитвы Ефрема Сирина: «И празднословия не дай душе моей!», то есть, это перекликается ещё и с пророком: «И вырвал грешный мой язык, И празднословный и лукавый...» Никакого празднословия! А мы: ля-ля, тополя – «Я помню чудное мгновенье»! Ничем не виновато это стихотворение, но я на него сержусь: ну, не может оно быть главным у Пушкина...
- Обессмерченный не так давно в России Набоков имел, по Вашим словам, своей основной темой как раз бессмертие.
- Я отталкиваюсь от того, что у Набокова была достаточно драматичная судьба. У Чухонцева есть стихотворение, «Чаадаев», кажется, называется, и там строчка: «Как червь, разрезанный на части...» Жизнь Набокова была разрезана на три части: у него была дореволюционная юность, потом Европа и потом Америка. А Швейцария – это, во-первых, уже возвращение в ту же Европу, а, во-вторых, у него этот период уже был немножко на покой, с тех пор, как он написал: «Моя девочка кормит меня», имея в виду «Лолиту»; в Швейцарии он по-снобистски жил в гостинице, хотя потом и дом был приобретён – не знаю, им или сыном. Бессмертие у Набокова было связано, прежде всего, с тем, что для него бессмертной осталась Россия. Он – великий мастер деталей, иногда даже чересчур роскошных, за что его упрекают в парчовости, но, конечно, у него не парчовая проза, но и не такая пронзительная деталь, как у Мандельштама. Так вот, у Набокова такие изысканные метафоры и детали, что в этом, на мой взгляд, присутствует огромная степень ностальгии; особенно в «Других берегах», «Даре», в его, так сказать, русских романах. Эти бессмертные детали запечатлели мгновение, мгновение никуда не девается, оно остаётся живым; а чтобы запечатлеть такое мгновение и его остановить – банальная фраза из «Фауста», которая так разошлась, нужно так его прописать, чтобы оно стало каким-то артефактом, скульптурой, вещью... Этого бессмертия он достигал, как певец, наверное, того, что прошлое, которое запечатлено, не имеет смерти. Хотя, чтобы оживить это прошлое, надо всякий раз перечитывать написанное. А я, к примеру, никогда не перечитываю того, что сам написал. Не дай Бог! Иначе я начну в это вмешиваться, править, а зачем это нужно?
Я никогда не работал над текстом, считал, что текст будет работать надо мной: если он идёт-идёт-идёт, значит, это правильно, а поправить можно уже мало что. А когда начинаешь правку, начинаешь вписывание запасённых деталей, они в результате не работают, вываливаются из страниц. У меня был даже специально урок со студентами по любимому чеховскому рассказу «Студент», про дьячка, который идет осенью с охоты, мёрзнет, потом видит у костра людей, подходит и начинает им рассказывать про Петра, им холодно, и ему холодно... Чехов совершил в этом рассказе великое гуманистическое открытие: другому так же холодно, как и тебе. Кстати, вот если бы наш исполком знал, как было холодно жить в Ленинграде в блокаду, так холодно и сейчас, но им не холодно, поэтому они этого не чувствуют. А Чехов был туберкулёзник, наверное, часто зяб и хорошо понимал, что такое мёрзнуть. Он мог идти по улице, встретить прохожего, которому тоже холодно, и всё – вот вам гениальный рассказ. Но нужно быть, конечно, Чеховым, чтобы его написать.
Так вот, я спрашиваю студентов: что бы Чехов вычеркнул в этом рассказе, если бы к нему вернулся, решил бы его доработать? Я задавал этот вопрос в разных аудиториях – в отечественной и в американской, в советской и в постсоветской. Русские студенты ответили, что Чехов убрал бы фразу про жалобный звук – как будто кто-то дует в бутылку. Ребята обнаружили вкус, потому что это найденная Чеховым деталь, словно из его записной книжки, и она из рассказа вываливается. А для американцев в переводе эта бутылка ничего не означала в плане звука, и они реагировали на пафос фразы о том, что так же, как и во времена, описываемые в рассказе, было холодно при Иване Грозном. Вот такая любопытная разница менталитетов: русские идут по вкусу, а американцы – хотя они бывают патетичны – считают лишний пафос не очень пристойным.
- У Набокова были эпатажные поступки, которые иначе как высокомерием не назовешь... Почему?
- Со слуха я знаю две истории на эту тему. Во Франции, в передаче «Апокриф», название которой потом утащил Виктор Ерофеев, Набоков давал интервью, наливая себе из чайника чай; в конце передачи выяснилось, что в чайнике было виски. Вторая история. В зените славы, после «Лолиты», Набокова пригласили на телевидение тоже на интервью. Он молча вошёл в студию, не ответил ни на один вопрос, через какое-то время туда же вошла его супруга Вера, и они молча принялись играть в шахматы. По-моему, таким образом Набоков хотел вывести в свет свою жену, к которой относился очень уважительно и которой посвятил все свои романы; жена была его первым читателем и так далее... Вообще, Набоков был человек замкнутый, нелюдимый, поэтому семья для него была обществом, и таким поступком он продемонстрировал обществу своё общество. Набоков в принципе не очень уважал публику. А чего её уважать-то? Низкопоклонство перед публикой – это неуважение к публике. А высокомерие... вы правильно поймите это слово: высокомерие – это высокая мера. Если вы не унижаетесь перед публикой – вы её уважаете и рассчитываете, что она принимает предложенный ей вами уровень, и это нормально.
Пушкин, кстати, тоже не очень-то жаловал публику, особенно к концу жизни. Поначалу его обласкали славой, но потом, чем серьёзнее и лучше он становился как поэт, тем меньше его понимали. Публика хочет, однажды признав кого-то кумиром, чтобы её кумир всё время повторялся в своём творчестве. Но хороший писатель – не поп-звезда, и кланяться публике, смешить её, щекотать её – не удел серьёзного автора. Автор может претендовать на то, чтобы его поняли, если его понимают, то могут и полюбить. Тогда возникает разделённое чувство, потому что читатель становится соавтором писателя; книга вещь ведь довольно не живая, её исполняет читатель, и от качества исполнения зависит качество текста. Автор может быть мёртвым, но он оживает в читателе. Так что я думаю, что Набоков с такой высокой мерой и подходил к публике.
- На днях исполнилось 150 лет со дня рождения другого классика русской литературы – Чехова. Обнаружили ли Вы какую-нибудь мистику цифр, связанную с именем Антона Павловича?
- Чехов родился в тот день, о которых мы говорили, – в истинный день смерти Пушкина. Кстати, Набоков очень любил Чехова, а я считаю Чехова замещением Пушкина в русской литературе. Для меня они рифмуются. Я долгое время думал, что Чехов, родившийся в 1860 году, родился в год обезьяны, пока не сообразил, что восточный новый год начинается в конце января – начале февраля; я немножко занимался восточной астрологией, её двенадцатилетними циклами. То есть, Чехов относится, по сути, к 1859 году, а это – ровно 60 лет разницы в возрасте с Пушкиным. А шестьдесят лет – это пять раз по двенадцатилетнему циклу, который имеет разные стихии – огня, воды и так далее, за шестьдесят лет происходит полное повторение этих стихий. Такой вот знак был мне дан. Эти два человека – Пушкин и Чехов – знали, что есть другие люди, но не так, как это знал Гоголь, – у нас всё любят повторять, что мы вышли из гоголевской «Шинели», а Гоголь всё-таки видел людей снаружи. Равноправие – это вовсе не равенство, Христос учил, что нет разницы между людьми, и это понимал Чехов, поэтому и стал всемирно признанным писателем. Меня долго удивляло, почему всемирным оказался писатель, насквозь пронизанный русской реальностью и действительностью, а потом я понял, что он писал про человека, а не про русскую действительность. А у Пушкина, кстати, труднее с мировым положением, потому что Пушкин – в языке, а язык так не передаётся; прозу, а тем более пьесы, переводить проще, а поэзию переводить практически невозможно. Так что за границей Пушкин больше известен по операм Чайковского и по постоянству звука – русские всё время говорят: Пушкин, Пушкин, Пушкин. Недавно мелькнула чья-то фраза, что французы не очень принимают Шекспира, и это опять же вопрос перевода, ну, французского снобизма в языке тоже, в его историческом противостоянии английскому языку. Так что прыгать через языковой барьер – не самая простая вещь.
У меня есть эссе «Мой дедушка Чехов, прадедушка Пушкин». Я как-то понял, что если бы Пушкин прожил 60 лет, и, будучи мужчиной «в порядке», мог бы родить и Чехова. Да? (Смеётся). В своё время Давыдов замечательно сказал: «А вы подумайте, что какая-нибудь мать старых времён, которая рожала год за годом, могла в прямом смысле родить всю русскую литературу: от Пушкина до Толстого». Это всего 29 лет! Так что такие возможности, действительно, были при крестьянском подходе. (Смеётся).
- Набоков был мостиком в русской литературе от Толстого...
- Я не так сказал. Я сказал, что Набоков – это отсаженная ветвь русской литературы, то есть, Набоков – это то, как бы развивалась русская литература, не будь октябрьского переворота. Набоков и не иммигрантский писатель, и не писатель советского периода, и он не совсем продолжатель традиций серебряного века.
- Кого ещё считаете возможным занести в категорию великих русских писателей и поэтов?
- Бродского, Мандельштама я уже упомянул... Андрей Платонов – вот вам великий писатель советского периода, который ещё будет прочтён и, думаю, будет читаться дольше Набокова. Платонов ведь из пролетарской кости и поначалу принял эти идеи, но ни один человек, кроме Платонова, не сумел так глубоко понять их изнутри, осмыслить и описать их несостоятельность. Зощенко – тоже гениальный, любимый мной писатель – был попутчиком советской власти, а Платонов не был. Хотя Зощенко всего-то на пять лет был старше Платонова, но он успел застать первую мировую войну... Вообще, эти крутые исторические виражи нарезают поколения с гораздо большей частотой, чем четверть века – как в среднем считается одно поколение, от рождения до рождения, четыре поколения на век – биологический ритм. А когда происходит революция или война, разница в три-четыре года между людьми становится уже существенной. Лермонтов – последний представитель золотого века, а Пушкин как бы первый по значимости, но Пушкин был отроком во время войны 1812 года, а Лермонтов только после войны родился – так что это очень разные поколения. Так же и моё поколение, которое помнит войну, отличается от того поколения, которое её не помнит; поколение, которое повоевало только в последние годы войны, отличается от поколения, которое прошло всю войну.
- Заболоцкий – ваш любимый поэт, более любимый, чем Пушкин?
- Да, Заболоцкий мой любимый поэт. Он не может быть более любимым, чем Пушкин, или менее любимым – это ерунда какая-то, они не бывают «больше» или «меньше». Просто дело в том, что Заболоцкий для меня свой. Пушкин – область постоянного погружения, а Заболоцкий – область отдохновения души. У Заболоцкого мне всё нравится, всё по мне: вся его улыбка, вся его экология. Я считаю, что он до сих пор недооценён как поэт; у Ахматовой, Пастернака, Цветаевой мощные репутации, а Заболоцкий задвинут, потому что он особняком, по-видимому, стоит. И вот опять же – разница в поколениях: он 1903 года рождения, а те, один за другим, родились в 1890-е годы – вся эта плеяда великих поэтов ХХ века. Заболоцкий ближе к обэриутам, но обэриуты больше оценены, как коллективное явление, и именно в таком качестве, как ни странно, и получили свою популярность. А Заболоцкий... кажется, что он всегда шутит, нет – он не совсем шутит. Сродни друг другу по какому-то эстетическому образу – хотя это и разные, смежные виды искусств – Заболоцкий, Платонов и Филонов; у них у всех есть какая-то своя космогония и, может быть, отчасти фёдоровская идея. Фёдоров – замечательный, странный философ, сумасшедший и гениальный, но он ведь оплодотворил ещё Толстого с Достоевским и Соловьёвым, и Циолковского, кстати, тоже.
Одно из моих последних соображений – описание никогда не будет глубже предмета описания. Вот вам закон познания. Что бы мы ни взяли, хоть чашку, она всё равно будет больше, чем про неё можно сказать. Это я к тому, что мы с вами сейчас говорим о личностях, но, сколько бы ими углублённо ни занималось настоящих исследователей их творчества – литературоведы более, в принципе, тонкий народ, чем критики – всё равно это будет бесконечное приближение и удаление от объекта исследований. Так что, что я могу вам сказать про эти фигуры? Не надо даже самоуничижением заниматься, а надо быть всего лишь объективным: предмет описания всегда будет перед тобой, но насквозь ты его не пройдёшь.
- Вы как-то сказали о себе: при советской власти «не прогнулся, но прозябал». Не такая уж, наверное, и плохая была власть, если при ней можно было допрозябаться до «Пушкинского дома», Андрей Георгиевич?
- Скажу так – и это роднит меня с русской литературой: я вырос не с советской властью, а в семье. У меня была особенная семья, такая осколочная семья, затаившаяся – все спокойно работали, жили, никто не был в партии, никогда в семье не говорили о политике, что, может быть, и было вредно для общего развития; моя семья была отдельной лакуной на Аптекарском острове. Там-то я и рос среди книг и среди родственников. У нас была полностью старая барская квартира, в которой мы жили такой вот большой семейной коммуналкой во главе с бабушкой. Так что я несколько иначе рос, чем сверстники, хотя бывал и в пионерлагере, и в армии служил, в стройбате, после армии я, кстати, и стал писать прозу. Я не думаю, что в СССР была советская власть, в СССР была империя, поэтому основная тема моих произведений – империя; это было единственное, что я мог как невыездной изучать, как страстный путешественник тоже изучать, как человек с геологическим образованием тоже изучать, и я вполне этому предавался. Я думаю, что большевизм как диктатура позволил сохранить империю, которая могла бы расползтись после первой мировой войны, как Австро-Венгрия, скажем, или как она расползлась в наше время. Режим удерживал империю, а империя на самом деле такое историческое существо, у которого, возможно, своё подсознание; и тиран тоже есть часть организма империи, централизованная власть для такого пространства, по сути, неизбежна.
- Вам не верили, что комментарии к «Пушкинскому дому» вы не сочиняли задним числом – настолько необычным и точным при работе над романом оказалось ваше открытие, что «в последующее небытие канут как раз общеизвестные вещи»...
-...мне не поверили ещё раз, когда я опубликовал с большим опозданием «Записки из-за угла», что они не были написаны задним числом. Я очень щепетилен насчёт дат! И позже я нашёл у Пушкина подтверждение правильности такой щепетильности: «Я имею обыкновение ставить дату». Более точного определения вещи внутри контекста всего того, что написал, кроме даты, нет. Обычный человек всё время меняется, а писатель обязан меняться, развиваться, вот это развитие и запечатлевает дата. Поэтому, кстати, и не надо особенно сердиться на поп-культуру.
- Акунин – поп-культура?
- Не знаю, я не очень его читал... Дело в том, что в последние десятилетия поднялись запрещённые жанры, которые стали удовлетворять рынок, – там есть лучшие и худшие профессионалы, а та литература, на которую ориентируюсь я, – непрофессиональная литература. Вся великая русская литература непрофессиональна, только Чехов уже был профессионалом. Достоевский мог бы быть профессионалом, но он себя загонял в эту структуру проигрышами и нищетой. Для Пушкина поэзия была скорее как позиция, при этом он был не против тех денег, которые ему могли заплатить за сочинения, но его литература – это развитие, то есть, совсем другое занятие, это непрофессиональная литература. В советское время профессионалами кого называли? Кто больше всех зарабатывал от литературы? Так больше всех зарабатывали секретари союзов писателей. Я – такой устаревший образец писания, как попало, как Бог на душу положит; это моё кредо. Конечно, в момент письма я не думаю, что Бог вкладывает слова в уши, но я стремлюсь к какой-то свободе текста и к своей собственной свободе, к постижению сути тех явлений, которых я по недоумению и недоразвитости стал очевидцем, свидетелем, и что стало моим опытом. Таким вот образом. Ну, а потом... судьба произведения – это тёмное дело, и как они будут жить без меня, я не знаю.
Акунин, по-моему, изобрёл одну великую вещь – и то я знаю это умозрительно, потому что читать про Фандорина мне неинтересно: он сообразил общую отсталость публики, общий её голод по жанру, которого не существовало в России. Он ведь господин вполне интеллигентный, образованный, японист. Акунин перенёс действие своих романов в то время, когда в России мог родиться настоящий детектив, но он родился в это время в Англии... Он написал романы, которые могли быть написаны тогда, – это такая догадка, которая дорогого стоит, понимаете? Его успех обеспечен этим. Путь Марининой, допустим, другой. Вот её романы я одно лето в Крыму читал, потому что хотел понять, кто их пишет. Когда я читаю какую-нибудь книгу, я либо не думаю про автора, а с ним общаюсь на равных или снизу вверх – я имею в виду, конечно настоящие книги, либо я начинаю на основании текста догадываться о личности автора, то есть, строить собственное произведение об этом человеке. Романы Марининой меня увлекли, потому что я никак не мог почувствовать там человека, разгадать автора... в данном случае разве что какие-то черты Каменской указывают в сторону Марининой; зато это хорошо заполняет страницу – приготовление какого-нибудь блюда, какая-нибудь косметика, боли в спине или ещё что-то. Но эти люди работники, они профессионалы, а я нет.
- Кому из писателей в России ещё не стоит памятник?
- Ой! Их надо сокращать. За советское время создали такое чугунное политбюро из классиков XIX века, и, действительно, что Чернышевский, что Добролюбов, что Грибоедов – а это совершенно разные люди... Правда, Грибоедову памятник, слава Богу, до революции сделали. Вот дореволюционные памятники я бы сохранил. И андреевский памятник Гоголю, которого убрали во двор, а поставили такого чугунного члена политбюро, как Добролюбов или Чернышевский. Не надо памятников! Пушкину были скромные бюстики на средства населения... Вот в Санкт-Петербурге на Пушкинской улице стоит маленький Пушкин – и трогательно, и смешно. Опекушина хороший памятник и Аникушина хороший памятник, но и Пушкин есть Пушкин, тут уж ничего не поделаешь. Но, в общем-то, это избыток, такой литературоцентризм, и он нас не оправдывает: дело в том, что если мы какого-то человека признаём, мы от него отделываемся, в основном. Вот Солженицын сам попросил себе деревянный крест у Донского монастыря, и его воля была выполнена. Это и есть памятник. А то ещё украдут на металлолом – и всё! Сколько было Лениных?! И даже сейчас в Питере вот взорвали его памятник – странный был поступок, смешной был памятник на броневичке. Память – это такая нежная вещь, которую действительно нужно хранить, а не замуровывать.
- Вы живёте на два города. Где вам комфортней: в Санкт-Петербурге или в Москве?
- Петербург – это моя родина. Москва жиреет за счёт всей страны, она – как сытая кобыла, она прекрасна, безусловно; там мне легче и климатически, и легче по делам – у меня всё-таки много обязанностей. Моя иммиграция в Москву возникла как-то сама собой, я вторым браком женился в Москву. А в Питере у меня деревня, и поесть там я хожу в ещё одну семью – в третью, вот так дворами я и живу в Питере. У меня и в Петербурге, и в Москве есть дети и внуки. В Москве квартира тоже около вокзала, как и обе питерские, – так судьба распорядилась. Нарочно не придумаешь, как по заказу! Но Питер – это я, тут уж нельзя обсуждать, нравлюсь я себе или нет. К тому же я – петербургский писатель, московским писателем я так и не стал, хотя Москва, в конце концов, меня приняла и в какой-то степени признала. И Питер начинает ко мне привыкать, а то раньше всегда бывала сноска: живет в Москве; я говорил: «Неправильно это!"» и теперь уже пишут: живет в Москве и Петербурге. Прописка – это всё-таки полицейская норма, а человек может жить, где хочет. Я могу жить в Катманду, но оставаться петербургским писателем.
У меня есть фраза: Москва (недаром отсюда идут все реформы русского языка!) – как слышится, так и пишется, а Петербург – как пишется, так и слышится; то есть Петербург по природе, даже по построенности города, – более письменный город, Москва более устный. Так всегда было. Москва к тому же отдохнула от своего столичного существования – вся литература золотого и серебряных веков создана тогда, когда столицей был Петербург. Правда, создана во многом москвичами, которые и творили, и умирали в Петербурге. Теперь, может быть, наоборот. Кстати, был когда-то маниловский проект построить вдоль Октябрьской дороги сплошную улицу, но, слава Богу, что не сделали, потому что даже на этом отрезке можно почувствовать, какая всё-таки Россия большая.
За Петербург у меня болит сердце! Мне очень не нравится состояние Питера, особенно этой зимой. Я приехал в Питер, когда был не убран снег, были надолбы, и я вдруг вспомнил своей четырёхлетней ногой этот лёд, именно вспомнил, а не понял посредством ассоциаций; что стар, что мал – это симметрия, это одна гора, только одна гора на подъёме, другая на спуске. Между прочим, это какое-то возмездие за то, что так отнеслись к блокадникам, которых практически не осталось... На чём экономить? Как не стыдно! Вот и случилась зима, чтобы люди это почувствовали – а только что ведь праздновали снятие блокады! – но никто ведь не понял, что это символика, довольно, я сказал бы, грозная! Вы говорите, памятники... Памятник блокаде – это тепло в домах и очищенные улицы. Настоящий памятник.
Беседовал Лев Сирин, «Фонтанка.ру»
http://www.fontanka.ru/2010/02/05/025/