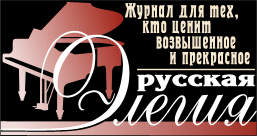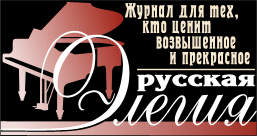Музыка предназначена не только развлекать, не только доставлять наслаждение, пусть самое возвышенное, - нет, музыка предназначена к исправлению нравов. Человек, постоянно слушающий хорошую музыку, должен становиться благороднее, должен быть неспособен совершить подлость!
Если даже постоянного слушателя настоящая музыка должна облагораживать, - так что же говорить об исполнителях, самую душу которых должна составлять великая музыка?! Но вот, оказывается, в этих стенах, пропитанных музыкой насквозь, в этих стенах помещается приоткрывшаяся сегодня кухня. Так неужели непосильно музыке мечтаемое высокое предназначение? Один - и две тысячи. Стоит в фокусе взглядов. Ведь они какую-то энергию излучают, и, может, поопасней радиоактивности, потому что не на тело действуют, а прямо на нервы, на душу. Какая же нужна сопротивляемость, чтобы душа не разрушилась, но укрепилась.
Это надо пережить: переход из-за кулис на сцену - как из ночи в день, как с вышки в воду. Вот он, Рубикон! Навстречу - софиты, пистолетом прямо в глаза, и неизбежные аплодисменты. Честнее, необходимые, как вода в пустыне, аплодисменты.
Зал реагировал - а это самое главное, это чувствуется сразу, и не столько по раздающимся в нужных местах аплодисментам, хотя страшна пауза вместо ожидаемых аплодисментов, - нет, это чувствуется сразу каким-то шестым чувством; только живая зрительская реакция дает возможность естественно жить на сцене; если контакт прервется, придется тотчас в ужасе бежать.
- Вы тоже любите Лермонтова?
- Боготворю! Знаете, я в старших классах мечтал быть эдаким холодно-неприступным Печориным, ей-богу! Не получалось, я для Печорина слишком болтлив, но все равно боготворю.
Вообще, с классиками тяжело. Если среднего слушателя спросить, вечно окажется, что чем старее, тем лучше: Чайковским - нас, Моцартом - Чайковского, Моцарта - Бахом. Если поверить, одно сплошное падение, а лучше всех, получается, играл на дудочке первобытный пастух. И с тех пор все падаем.
- За что ещё любить, если не за талант?
- Это его любимый тезис, (...)его самого поэтому должны любить все.
На сцене он только и изображал всевозможных влюбленных, вплоть до Отелло, и на это уходило так много душевных сил, что вне сцены их не оставалось. Впрочем, сам он об этом не подозревал, как не подозревают о своем недостатке многие дальтоники, вполне удовлетворенные видимой ими картиной мира и принимая её за истинную. Только вот - и тут аналогия с дальтониками кончается, - не умея любить по-настоящему, словно в компенсацию он чувствовал постоянную потребность быть любимым.
От восторга - восторга музыкального, когда необычно легко пелось, или захватывала музыка, слышимая впервые, - он натурально хмелел, только никогда еще хмель не был таким сильным. Ну а уж во время самых пылких влюбленностей он и вполовину такого не переживал.
Он пел и особенно полно чувствовал то, что чувствовал и при каждом своем выступлении: что самое главное - петь, единственное настоящее счастье - петь, а всё остальное в его жизни второстепенно.