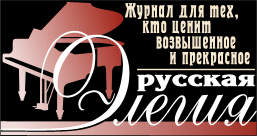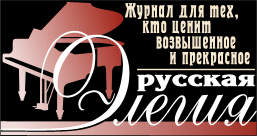|
Вспомнить всё
| |
| Елена_Фёдорова | Дата: Пятница, 28.01.2011, 01:31 | Сообщение # 1 |

Группа: Модераторы
Сообщений: 5898
Статус: Offline
| Последние
25.01.2011 14:19 На долговременную реконструкцию закрылся Большой драматический театр. В 50-80-х годах прошлого века он был главным театром советской интеллигенции, а затем еще двадцать лет нес бремя легендарной славы, точно вериги. Последними на родную сцену поднялись Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили в премьере «Лето одного года» – спектакле про уход поколения мастеров. «Жизнь в этом доме кончилась, больше уже не будет», – говорит одна из героинь «Вишневого сада». Ровно с этим ощущением четыре с лишним часа смотрелся последний спектакль БДТ про двух стариков, которые проводят лето в любимом загородном доме, отчетливо понимая, что оно может стать последним. А в финале превращаются в две сгорбленные мультяшные тени на заднике, которые медленно бредут в сторону горизонта, пока не превращаются в точку. Выглядит это, конечно, чересчур сентиментально, но Большой драматический стоит того, чтобы его оплакать, – несмотря на двадцать последних лет, равно мучительных как для актеров, так и для зрителей. Как Фрейндлих и Басилашвили стоят тех оваций и цветов, которые обрушились на них «под занавес». И дело не в том, что они – последние из могикан (наряду с другими актерами товстоноговского призыва, которые до сих пор остаются в строю, – Зинаидой Шарко, Людмилой Макаровой, Валерием Ивченко). Вернее, не только в том. Но и в другом. Звезды такой величины – и даже величины значительно меньшей – в основной своей массе давно не тратятся ни на что большее, чем антрепризные эскапады. Известные имена на афише теперь чаще всего обозначают весьма бесстыжий антихудожественный чес. А эти двое, носящие теперь уже раритетный титул народных артистов СССР, четыре часа кряду с дотошностью и подробностью исследователей-энтузиастов и с безукоризненным чувством меры и стиля, разбираются со старостью. Нужна изрядная актерская дерзость и отвага, чтобы, разменяв восьмой десяток, играть ужас и отчаяние оттого, что забыл, где находится хоженое-перехоженое местечко в ближайшем лесу, – как это делает Басилашвили. Чтобы кричать: «Господи, не забирай его у меня, тебе не нужен этот дуралей!» – и это выглядело трагедией, как у Фрейндлих, а не мелодрамой. Да что там говорить, простая естественность на сцене – без эстрадных выпадов, без спецэффектов – сегодня уже выглядит поступком. Век назад, в момент первого кризиса того замечательного явления, которое во всем мире теперь почитают как русский психологический театр, его основатель, К.С.Станиславский, пришел к выводу, что эстетическое единство взглядов, даже в одном коллективе, – утопия. Но общая этика, система норм профессионального поведения, – то, без чего рухнет любое, самое благополучное творческое начинание. Диктатура великого театра Георгия Товстоногова держалась на железной этике. Зинаида Максимовна Шарко как-то рассказала мне две замечательные истории. Одна – как Ефим Копелян и Павел Луспекаев, у которого тогда уже начиналась гангрена, взявшись за руки, неслись по лестнице с первого на шестой этаж, чтобы в нужном состоянии выйти на сцену на рядовой репетиции. Вторая – как тот же Ефим Копелян по окончании репетиции поднялся в гримерку к начинающему актеру и ударил его по лицу за то, что тот позволил себе явиться на репетицию, что называется, «наутро после…», и еще переспросил, понял ли молодой человек, за что получил, – и тот, что характерно, понял. Всем своим ученикам (не только артистам БДТ, но и режиссерам, теперь возглавляющим лучшие российские театры) Товстоногов внушил восприятие сценической реальности как «мира высоких страстей и благородных чувств, зовущих за собой». Такой мир после ухода Товстоногова возникал на сцене БДТ считанные разы, но вот в этом последнем спектакле возник – вместе с пронзительной интонацией момента расставания с домом, который сыграл в отечественной культуре совершенно уникальную роль. Не мной замечено, что в послесталинскую эпоху БДТ был чем-то вроде главного театрального кафедрального собора страны. Думающие соотечественники собирались тут не просто на встречу с искусством, но для духовной работы, которая заключалась в расшифровке эзопова языка, закодированного в постановках самых что ни на есть классических текстов. Как известно, Товстоногов не был пуристом в отношении власти – каким, скажем, был Любимов. Его отношения с системой в каком-то смысле можно даже назвать сговором. Из широко известных жертв системе – «Римская комедия» – полная аллюзий с современностью пьеса Леонида Зорина, снятая накануне премьеры, плакат «Догадал меня черт родиться в России с умом и талантом» в качестве эпиграфа к «Горю от ума», провисевший только два спектакля, «Поднятая целина» к юбилею Шолохова, воспевавшая коллективизацию, и другие регулярные «датские» постановки. Но это были компромиссы исключительно в области гражданской этики, творческих жертв Товстоногов не приносил никому и никогда. Тоже, кстати, своего рода феномен: я лично была до поры до времени убеждена, что большой художник не может высокохудожественно лгать, но слишком много очевидцев, включая моих собственных родителей и учителей, уверяет, что шолоховская колхозная эпопея выглядела на сцене БДТ грандиозно без всяких скидок. В прямом смысле политическим театр Товстоногова не был, но актуальным и даже пророческим, в том числе и в политическом смысле, – несомненно, был. В спектаклях, поставленных мастером по велению сердца, публика вычитывала то, что в здоровом обществе составляло бы хлеб публицистов. В «Горе от ума» (1962) Молчалин (Кирилл Лавров) впервые в истории театра выглядел умником, который с надменным цинизмом диктовал Чацкому (Сергею Юрскому) по пунктам рецепт карьеризма. На излете «оттепели» изрядно досталось говорливой и бессильной по сути интеллигенции: чеховские три сестры (1965) не спасали ни дом от пошлости, ни Тузенбаха (Юрского) от пули Соленого (Лавров). Начало застоя ознаменовалось «Ревизором» (1965), в котором на занавесе красовалась огромная лужа, а все поступки персонажей во главе с городничим (Кирилл Лавров) определял страх – истерический, полуживотный. При этом Хлестаков (Басилашвили) выглядел ребенком, а его слуга Осип (Юрский) носил треснутое пенсне, белые перчатки и изрядно смахивал на булгаковского Коровьева. Безнадежную стагнацию 70-х отразил «Холстомер» (1975) – история об обреченности в обществе не такого, как все, – с уникальным Евгением Лебедевым в роли толстовского пегого мерина. Ну, а уж «Смерть Тарелкина» (1983) – опера-фарс о вурдалаках и упырях системы, которая крутится вокруг гроба, – фантастическим образом совпала с водевильными смертями, одна за одной, двух генеральных секретарей: Андропова и Черненко. Вообще, когда мне сегодня говорят, что театр в современной России никак не может понять, в какие отношения к власти ему встать, как, будучи полностью зависимым от государства, все-таки не терять лица, – слушать это, как минимум, странно. Театр – не телевидение, и свою долю свободы он, как доказал Товстоногов, может взять всегда, а вот зрителя, который придет в театр не для развлечений, надо воспитывать. Аргумент о том, что жизнь отнимает хлеб у театра, что события на Манежной площади не перешибить сценическим зрелищем, – тоже, знаете ли, в пользу бедных. Как раз во время этих самых событий я пересмотрела в МДТ спектакль Льва Додина «Жизнь и судьба» по роману Гроссмана – тема геноцида в связи с реальными событиями обрела в ней остроту газетной передовицы, в финале люди устроили в зале едва ли не получасовое братание. Так что проблема, конечно, – исключительно в личности художника и качестве художественного текста. Один только парик Валентины Ивановны на голове актрисы Ларисы Луппиан не сделает злободневной дешевую поделку Василия Сенина, поставленную на потребу публики, – даром, что по пьесе Островского. И не побегут по телу мурашки от пьесы Евгения Шварца «Убить дракона», которая кажется написанной буквально вчера, если ставить ее как дурновкусное развлекательное шоу. А вот на последнем спектакле БДТ, который сыграли два народных артиста СССР, мурашки бежали. Спектакль этот без всякого напряга выдержал бы посвящение Товстоногову, потому что Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили, полагаясь исключительно на творческую интуицию (режиссер им тут помог мало, да и не мог помочь), попал в нерв общетеатральной, и шире – общекультурной, ситуации в сегодняшней России: они сыграли уход великой эпохи мастеров, готовых и способных отвечать за каждый шаг на сцене, и заставили всякого, имеющего культурную память, вспомнить всё, давая тем самым шанс современникам. Жанна Зарецкая,
«Фонтанка.ру» http://www.fontanka.ru/2011/01/25/099/
|
| |
| |
| Юлия_Михайловна | Дата: Вторник, 08.02.2011, 12:02 | Сообщение # 2 |
|
Группа: Постоянные участники
Сообщений: 79
Статус: Offline
| Беспокойная старость
“Лето одного года”. БДТ имени Г.Товстоногова
Марина ДМИТРЕВСКАЯ
Санкт-Петербург “На Золотом озере” – бенефисная (сразу для двух возрастных артистов) пьеса Эрнеста Томпсона о любящей семейной паре. Ее-то и поставили в БДТ под названием “Лето одного года”, позвав режиссера Андрея Прикотенко “умереть” в Алисе Фрейндлих и Олеге Басилашвили. Что режиссер и проделал, оставив о себе память изящными проекциями картин Эндрю Ньюэлла Уайта, которыми светится каждый раз дом, становящийся как будто прозрачным в моменты воспоминаний и раздумий старого Нормана: деревья, девушка с косами, объемные бутылочки в старом шкафу, озеро... В оскароносном фильме “У Золотого озера” с Кэтрин Хепберн и Генри Фонда нам явлена прекрасная старость на фоне прекрасной природы, золотая гладь воды и две гагары, столь же красивые и элегантные, как и герои-люди. В американском фильме прекрасная Этель ходит в лес по грибы в элегантнейшей белоснежной рубашке, а укротить оставленного на месяц мальчика Билли (пасынка дочери Челси) помогает не только благородство, но и роскошный катер, на котором Норман и Билли рыбачат. В этой картине опорная фраза Этель дочери – о том, что надо двигаться по жизни дальше, не засиживаясь в детских комплексах (чисто американская, бодрая такая фраза). И Челси делает сальто назад с мостков! И доказывает отцу, что комплекс изжит! И они обнимаются. И никакого тихого “я тебя люблю” по телефону, как в нашем спектакле, там, в американском кино, не нужно. А у нас нужно. И важно, чтобы дочка узнала на маме не кофту, которую помнит с детства, а халатик (мамины халатики – это особое дело, и Фрейндлих прекрасно “вписывается” в этот халатик). И нужны сапоги для рыбалки и плащи, потому что отечественная рыбалка не ассоциируется с комфортабельными катерами. И чтобы Этель сделала на наших глазах уборку дома и обжила его (“накануне Нового года Фрейндлих произвела полную генеральную уборку сцены БДТ” – не шутка), а мальчик был не юным ковбоем, а еще ребенком (тогда не нужны катера, можно обойтись удочками), и чтобы почтальон Чарли (Федор Лавров) с детства был влюблен в Челси и выглядел прихрамывающим романтиком. И нет нужды в катастрофе, свойственной американскому кино, когда катер Нормана ночью разбивается о камни, Чарли и Этель ищут пропавших, и 70-летняя женщина прямо в одежде ласточкой прыгает с катера в воду… Все это я к тому, что пьеса “На Золотом озере” адаптирована к отечественным условиям, хотя вряд ли это называется “фантазиями на темы”, как заявлено в программке. У спектакля БДТ все данные для антрепризного успеха, какой сопровождал “Калифорнийскую сюиту”, а до того – “Пылкого влюбленного”. Новое время – новые песни, “Калифорнийская” свое отыграла. А вот Фрейндлих и Басилашвили – явно нет. И если в фильме Челси олицетворяла Джейн Фонда (папина дочка), то у нас ее представляет Варвара Владимирова (мамина дочка), что для успеха тоже не лишнее, а чудный мальчик Андрей Хржановский (Билли) – сын актрисы БДТ Александры Куликовой, продолжатель кинодинастии Хржановских, и это тоже не лишнее в антрепризном аспекте. Один из критиков остроумно заметил: “Театр прописывает адрес спектакля вплоть до индекса. Это почтенная буколическая публика с небольшими вкраплениями чудаков, готовых высидеть три часа ради пятнадцати минут настоящего театрального удовольствия”. Я, видимо, из тех “буколиков”, кто готов отсидеть спектакль, иногда реально погружаясь в дрему (действие ритмически не выверено, ритмы житейские пока не претворены режиссером в сценические), ради того, чтобы с близкого (!) расстояния наслаждаться тем, как работают (пока отдельными сценами) Фрейндлих и Басилашвили. Так практически уже не играют. Хотелось бы видеть рядом с собой всех студентов театральных вузов страны, пусть бы ректораты купили им билеты в ближние ряды, и они смотрели. Смотрели не только на то, как 80-летний герой снимает сапоги (и КАК это делает Басилашвили, как вообще он играет старость), но и на то, как эти артисты играют любовь (Фрейндлих это умела всегда и как никто, Басилашвили стал играть с годами). На то, как эти последние из могикан не оставляют пустым ни одного сантиметра “жилой площади” спектакля: и пространственной, и психологической, и партнерской. В начале спектакля Фрейндлих прибирает дом после зимы – и это настоящие психофизические усилия по обживанию пространства. Ее героиня таскает тяжелые кресла-качалки, моет пол, а Тейер – Басилашвили, напротив, неподвижно сидит всю первую сцену, “обживая” внутреннее состояние: ловит ускользающую нить сознания. Ее, Фрейндлих, очаровательная центробежность и его “центростатичность” дают понятную “экспозиционную завязку”. С развитием действия есть проблемы, ощущение, что пока спектакль сыгран кусками. Фрейндлих пока осваивается в роли, а Басилашвили и сейчас лирически серьезен в освоении физиологических и психологических предлагаемых 80-летнего возраста: провалы памяти вчерашнего остроумца, потеря логики, страх ухода. А ведь ничего не стоило взять два-три привычных приема и не тратить усилий. Но Басилашвили играет так, будто сдает экзамен по актерскому мастерству в родной Школе-студии МХАТа, а смотрят на него не зрители, привыкшие к профессиональной неряшливости звезд, а его учителя Б. Вершилов, П. Масальский, В. Монюков. Может, они и есть его истинные зрители? Похоже. “Мое тело и мой ум вступили в соревнование – что первым выйдет из строя”, – говорит старый профессор Тейер. И если у него – ужас внезапной потери ориентации в мире, то у нее, Этель, – постоянная, пристальная “жизнь за двоих”. В том, что делает Фрейндлих, узнаются прежние ее обворожительные героини, но я узнаю в этой Этель и старых подружек мамы, оберегавших и подбадривавших своих слабеющих мужей, обеспечивающих их собой, своей жизнью… А в финале, когда Норман почти умирает (Басилашвили виртуозно играет “настоящий” приступ), Фрейндлих выходит на свою тему последних лет (“Оскар и Розовая дама”): “Знаешь, я сегодня в первый раз почувствовала, что мы умрем… Я видела смерть, я прикасалась к ней. Я боялась ее. Но сегодня впервые я ее почувствовала… А впрочем, знаешь, все это не так уж и страшно”. Хотя, конечно, это спектакль не про ЧТО, это спектакль про КАК. Как играть вообще и как играть любовь. http://www.kultura-portal.ru/tree_ne....1142817
|
| |
| |
|