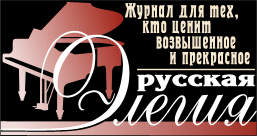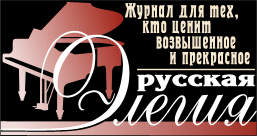Александр Ширвиндт:
«Чехов и Гоголь вертятся в гробах, видя, как режиссеры препарируют их тексты»
26.02, 18:04 ГАЗЕТА.GZT.RU Актер, режиссер и художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал GZT.ru о том, почему он взялся за постановку водевилей, о нелегких буднях – своих и труппы, и о том, почему считает себя вампиром.
1 марта исполняется 40 лет с тех пор, как Александр Ширвиндт – король капустников, блестящий острослов и сердцеед пришел работать в Театр сатиры. Он начал с роли графа Альмавивы в легендарном спектакле «Свадьба Фигаро», а сейчас играет в пяти спектаклях репертуара. Один из них, «Орнифль», в котором у Ширвиндта главная роль Ормесье Орнифля – автора театра популярных песен и любимца женщин,– 28 февраля сыграют в 200-й раз. Сейчас Александр Анатольевич репетирует как режиссер спектакль по двум водевилям и планирует в апреле выпустить премьеру.
– Александр Анатольевич, многие театральные критики в рецензиях на спектакль «Орнифль» все время сравнивали этого героя с вами, и писали, что вы играете себя. А на самом деле между вами и Орнифлем много общего?
– Мне понятно, как Орнифль относится к жизни, и чего он от нее хочет. Не могу сказать, что я строил и строю свою жизнь по тем же самым параметрам, но мне знакома такая философия и жизненная позиция. Поэтому, хотя я и не играю себя, во время репетиций «Орнифля» мне не приходилось, выпучив глаза, вчитываться в текст и долго соображать, что имеет в виду мой герой, произнося какую-нибудь фразу. Я это и так знал.
– А бывали такие роли, когда приходилось вчитываться в текст, мучительно тереть лоб и думать: чего же тут хотел автор?
– У меня такое обычно бывает не с текстами, а скорее с режиссерскими концепциями. Сейчас у молодых режиссеров завелось модное поветрие: надо обязательно поставить пьесу не так, как ее ставили раньше. Чтобы до такой концепции не додумался ни один режиссер. Все следуют этой моде, иногда доводя ее до абсурда. Поэтому всегда опасно отдаваться какому-нибудь молодому, новомодному режиссеру. Если сразу не поймешь, куда он клонит, можно так нарваться, что врагу не пожелаешь.
– Разве в театре раньше не было необычных режиссерских концепций?
– Раньше, когда я был еще молодым и активно играющим артистом, у режиссеров была тенденция раскрыть идею автора. Попытаться понять, что он имел в виду, сочинив какую-нибудь фразу. Сейчас у модных режиссеров диаметрально противоположная позиция. Всем хочется не раскрыть автора, а наоборот, закрыть. Чтобы показать всем собственную точку зрения на тот или иной материал. Представляете, как сейчас вертятся в гробах Чехов, Гоголь и Салтыков-Щедрин, если они оттуда видят, как режиссеры препарируют их тексты? Видят, как переиначивают написанные ими фразы, вставляют отсебятины, кто из героев спектакля с кем на сцене живет, и так далее.
Я работал с хорошими режиссерами: с Михаилом Туманишвили, Анатолием Эфросом, Валентином Плучеком, Марком Захаровым , Олегом Ефремовым. Но при всей разнице их методологии, они придерживались одной и той же идеи: попытаться раскрыть, что имел в виду автор. Даже если они ставили не классику, а абсолютно современную пьесу, эти режиссеры все равно пытались докопаться до ее глубинного смысла. Никому не приходило в голову сказать: «Ох уж этот автор! Как он мне мешает высказать то, что мне хочется!», и перевернуть все вверх тормашками.
–Неужели даже Анатолий Эфрос ничего не менял?
Я сыграл у Толи, наверное, в двенадцати спектаклях, во всех у меня были центральные роли. Но не помню случая, чтобы он внес в авторский текст хоть одно слово, даже если он ставил пьесу Самуила Алешина «Каждому свое» про жизнь в концлагере.
– Почему же он решил ее поставить?
Начальство буквально схватило Толю за горло, и ему пришлось ко Дню победы поставить «Каждому свое» в театре Ленком, где мы тогда работали. Но даже в этой пьесе Эфрос не изменил ни одного слова. Он сохранял в спектаклях тексты Алешина и Эдварда Радзинского, я уже не говорю о Брехте, Чехове, Мольере и Булгакове. В них бывали некоторые купюры. Но никаких отсебятин или подмены одних слов другими.
– Правда ли, что вы находились в родственных отношениях с женой Эфроса, театральным критиком Натальей Крымовой, и таким образом являетесь дальним родственником их сына, художника и режиссера Дмитрия Крымова?
– Да, мама Наташи Крымовой была женой моего дяди.
– Вы часто ходите на спектакли Дмитрия?
Я смотрел его спектакли, когда он только начинал как режиссер. Последнего чеховского спектакля не видел. Дима – человек упертый, талантливый. Он дико похож на Толю, и внешне и по характеру.
– Почему вы ушли из Театра на Малой Бронной, где работал Эфрос, в Театр сатиры?
– Мы не расставались и не ругались. Просто в Театре на Малой Бронной, куда мы все перешли вслед за Эфросом из Ленкома, он был очередным режиссером, ставил один спектакль в 2,5–3 года, и у него появились новые творческие симпатии. В «Сатире» было гораздо больше работы. Меня переманили сюда друзья: Марк Захаров, который тогда здесь работал, и мой ученик и приятель Андрей Миронов, который в тот моменты был в «Сатире» если не первым, то очень известным артистом. В тот момент из театра ушел Валентин Гафт, они подсунули меня Валентину Плучеку, и я пришел играть графа Альмавиву в «Свадьбе Фигаро». С этого все началось. Так и работаю до сих пор в «Сатире».
– Сейчас вам интереснее самому ставить спектакли или играть в них?
– Наверное, все-таки ставить. Я уже настолько наигрался… Это, наверное, возрастное. Хотя, честно говоря, мне больше нравится педагогика.
– Вы сейчас репетируете как режиссер водевили «Дядюшкина тайна» Ленского и «Убийство на улице Лурсин» Лабиша – почему вы решили их поставить?
Я люблю водевили как продукт. Всю жизнь бы ими занимался. По-моему, это прекрасно: на фоне бесконечной стрельбы, крови и кошмара, который мы видим и в жизни и на телеэкране, сыграть два веселых французских водевиля.
– Но ведь один из водевилей написал русский драматург. Кстати, вы хотели приурочить премьеру к году России во Франции?
Я не хочу ничего ни к чему приспосабливать, просто так совпало. А «Дядюшкина тайна» – это по стилю тоже французский водевиль, хотя написал его русский классик.
– А, правда, что вы приходите в театр раньше всех?
– Неправда. Репетиция начинается в 11 часов, я прихожу на полчасика раньше.
– Чем занимаетесь в это время? Готовитесь к репетиции или ходите по театру?
– Гулять мне некогда. Хозяйство большое, вот и возникает проблема за проблемой. Мне приходится заниматься самыми разными делами. Театральными интригами, заменами спектаклей, вводами актеров, решать – отпускать кого-то из них, если он отпрашивается, или не отпускать, и так далее. Все актеры в беготне, поймать никого нельзя. Но ничего не поделаешь, так складывается жизнь.
– Как складывается финансовая ситуация в Театре сатиры? Хватает ли денег на постановку спектаклей?
– Мы – государственное учреждение, российский государственный театр. Зарплату нам платят, все остальное мы сами зарабатываем. Пока крутимся.
– У вас же зал на 1250 мест, как вам удается его заполнять?
– Не забывайте, что у нас еще Чердак сатиры, где 150 мест, это уже 1400. Но пока крутимся, выуживаем зрителя из водоворота разных антреприз, театров и театриков. Не скажу, что у нас каждый день бывают аншлаги, но ниже 60 % процентов заполняемости зала не бывает. Для нормального театра с залом на 600–800 мест это аншлаг. Но некоторые наши спектакли идут с аншлагами. Так что на хлеб мы себе зарабатываем.
– Вы сказали, что сейчас вам больше всего нравится педагогика. Что самое приятное в этой профессии?
Молодые глаза учеников, и их юношеская энергия. По-моему, педагогика – это вампирическая профессия, и мы – педагоги – вампиры. Бывает, идешь на занятия: еле ползешь, коленки болят, дыхалки нет. Приходишь, и видишь 25 газелей с широко раскрытыми глазами, длинными ногами и курносыми носами и вдыхаешь полной грудью. Пока идет занятие, подпитываешься их энергией, подпитываешься и глядишь – насосался и помолодел.
http://news.mail.ru/culture/3440941/